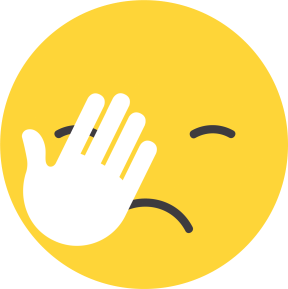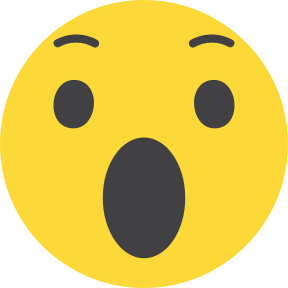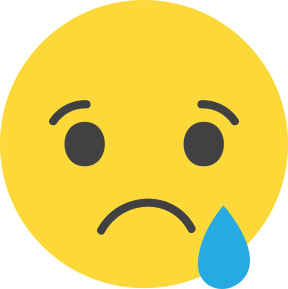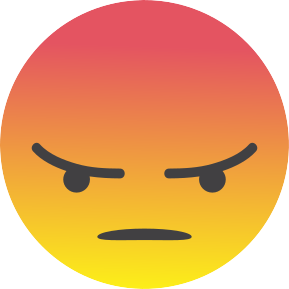Тяжелые черные облака висят в небе, словно надутые пуховые подушки. И начинается дождь. Он сперва моросит, а потом льет как из ведра. Я слышу гул грузовиков, мимо которых мы проносимся. Польские, украинские номера, российские, литовские, белорусские. Немецкие замечаешь лишь изредка.
Брызги воды стреляют в стекло моего шлема. Через пряди дождя мир выглядит искаженным и размытым. И лишь урывками бывают прояснения.
Разрыв в облаках появляется, когда мы проносимся мимо Познани — города, где родился в 1904 г. мой дед. До окончания Первой мировой войны этот город принадлежал Немецкому Рейху. Пруссия абсорбировала его в свое тело после того, как империалистические аппетиты растянули польско-литовское государство по кусочкам.
В небе между тем разыгрывается драматическая сцена борьбы облаков с чистым небом — пожалуй, здесь, собственно, и начинается наше путешествие.
Я живу в Берлине с женой Алесей. Она родилась в Беларуси, я — на западе Германии. На мотоцикле мы движемся с запада на восток, но не прямо, а как вздумается, до самых Столбцов — маленького городка, расположенного юго-западнее белорусской столицы. Там выросла моя жена. Там живут ее родители.
Название городка можно перевести как «плотогоны» — потому что река, на которой в начале XVI века его построили, использовалась в качестве транспортного пути. Река по-белорусски называется Нёман. По-немецки — Мемель.
Тот, кто едет из Берлина в Москву поездом, пересекает Неман по мосту, который до сих пор, как во времена Холодной войны, охраняют солдаты. Начиная с 1994 г. я посетил Беларусь бесчисленное количество раз.
Благодаря Беларуси я лучше узнал и Польшу.
Многие из моих белорусских друзей в разное время там жили, учились или работали. Чтобы заработать, чтобы иметь перспективу, чтобы пожить в свободной стране. Со своей соседкой Беларусь делит длительную историю.
К концу XVIII века белорусское культурное пространство находилось в границах польско-литовского государства. Когда же после Первой мировой возникла Вторая польская республика, запад Беларуси снова стал польским. В 1939 г. нацисты и советы поделили между собой соседа. После этого были война, террор, геноцид, отселения.
Мой дед был на Восточном фронте, дед моей жены воевал в Красной армии.
За то, что мы можем быть вместе, мы должны благодарить те изменения, которые произошли после 1989 г. Поэтому название соединяющего Берлин и Варшаву шоссе — Автобан свободы — для нас не пустой звук. Отправиться в такое путешествие — неплохая идея в наше время, когда вокруг рвут глотки, призывая строить новые границы, когда пропагандируют изоляцию и отмежевание, когда исторические вымыслы и историческая забывчивость снова входят в моду. Прокатиться на мотоцикле по просторам европейской истории.
В районе Гнезно опять нестерпимо печет солнце. Во время заправки ключ зажигания разваливается на куски. Пожалуй, не случайно это происходит именно в том городе, который связывают в мифах с образованием польского государства. Перед нами материализуются две «польские феи» — так моя жена иронично окрестила двух сотрудников службы эвакуации. «Мы вам сделаем новый ключ», — очень быстро говорит один из них, невысокий и жилистый.
Моя жена разговаривает с ними на смеси ломаного польского и белорусского. Понять можно. «На улице Адама Мицкевича у нас есть хороший мастер, он поможет». Другой, долговязый, смотрит на жену: «Вы Адама Мицкевича знаете?» «Ясное дело. А вы знаете, что он родился в Новогрудке? Это в Беларуси, на моей родине». Долговязый снисходительно улыбается. Нам делают ключ на улице Мицкевича (такие улицы есть почти в каждом польском месте, как улицы Гете в немецких городах). Путешествие спасено. На прощание: объятия, фото.
Движемся дальше. На улицах бабушки продают грибы, мед и варенье, а молодые женщины торгуют своим телом. В Мазурах мы проезжаем озера, смотрящие в небо своими глубоко-голубыми глазами, и только что отремонтированные старинные усадьбы, которые ждут отдыхающих из Варшавы.
В деревнях пахнет, как и раньше: дымом, навозом, свежим сеном.
Вечернее солнце пронизывают все вокруг нежным, мягким светом — и, кажется, ты понимаешь, почему многие с ностальгией поэтично рассказывают о Мазурах.
Ландшафт, который история не раз перетягивала то в ту, то в другую сторону, — как и другие территории в этой переходной зоне Европы, где на протяжении веков смешивались самые разные культуры. «Я старательно складывал край своего детства из осколков разбитого мира», — так описывал свое существование в мире, который исчез, мазурский писатель Эрвин Крук.
Аисты, кажется, неплохо себя чувствуют в этом году. Часто в гнездах по два птенца — ожидают момента, когда же наконец можно будет учиться летать. Пожалуй, они единственные, кто не знает, все эти тесно связанные земли поделены границами.
И действительно, белорусские пейзажи очень похожи на немецкую землю Бранденбург. Широкие поля, густые леса, прохладные озера; иногда холмистый, а потом снова плоский пейзаж.
Когда день клонится к вечеру, в старой крестьянской усадьбе на краю крохотной деревушки мы встречаем молодую польскую пару, которые приглашают нас перекусить сосисками.
Оба переехали сюда из Варшавы, а родились в Люблине. Она была учительницей, работала в маленькой фирме. «Мне нравилось учительствовать», — говорит она. «Но у наших учителей низкие зарплаты».
Следующим утром мы прощаемся с хозяевами усадьбы, в которой ночевали, — другой молодой парой из Щецина. Они решили сбежать из города в дикую романтическую природу.
«Деревня бегунов» — так они называют свое место жительства. Оба увлечены бегом и часто приглашают к себе в гости спортсменов со всего мира. Мазуры снова становятся перекрестком, где встречаются другие культуры и рождаются новые истории.
Улица в никуда
Улица, ведущая через сосново-еловый бор, кажется бесконечной. Кусок неба — всего лишь пятнышко на горизонте. Улицы в направлении границы ведут в никуда, последнее слово здесь остается за природой.
Человек интуитивно чувствует исходящий от границ дискомфорт — они разделяют, режут пополам, разрывают, за них веками воюют и умирают.
И хотя я имел опыт пограничного контроля еще ребенком, когда мы на автомобиле ездили в Нидерланды или в Бельгию, чтобы купить там кофе или заправиться, а также во время своих журналистских и туристических поездок в постсоветское пространство, но до сих пор близость границы вызывает у меня нервную дрожь в животе.
На погранпереходе в Кузнице очередь из десятков автомобилей и микроавтобусов, которым надо попасть в Беларусь. Большинство — с белорусскими номерами, некоторые с польскими, и единицы — с российскими. Процедура малопонятная для тех, кто с ней не знаком.
Сначала проверяют паспорта и визы. Потом нужно ехать к белорусской таможне и зарегистрировать свой автомобиль, а также предоставить багаж на проверку. Тому, кто не умеет ни по-белорусски, ни по-русски, приходится несладко. Только после этого поднимается шлагбаум и можно проехать к следующему шлагбауму, протянуть пограничнику талон, на котором паспортисты и таможенники поставили свои метки.
Через три без малого часа можно, наконец, попасть в Беларусь. Другие ждут дольше, грузовики — иногда даже целый день. Ожидающие принимают это со смирением и юмором.
Купание в Немане
Минуем Гродно — город, который уже в 1444 году получил Магдебургское право.
Проезжаем сосновые леса, золотые поля, сочные луга, исторические городки Новогрудок и Мир, а также деревни с их яркими клумбами и серыми или голубыми деревянными домами. Мы едем в направлении Столбцов. Там родители Алеси уже накрыли праздничный стол. Со свежими помидорами и огурчиками из своего огорода, с жареной щукой из Немана, соленым салом и картошкой.
Бульбаши — так, несколько унизительно, называют иногда белорусов — «картофельные люди».
Картошка — основа многих здешних блюд. Угощают сердечно и щедро. Водка и сентиментальные тосты. «За то, чтобы мы друг о друге заботились и чтобы следующей встречи не пришлось так долго ждать».
Пафос как защитный панцирь, которым обросли белорусы за пережитые на этой земле столетия войн и катастроф.
Я вспоминаю, как когда-то просил у Алесиных родителей руки ее дочери в таких же высокопарных выражениях. «Не был бы то немец», — вырвалось тогда у моей будущей тещи. Она смущенно улыбнулась. Мы посмотрели друг на друга и расхохотались.
В последующие дни мы купались в Немане, поглядывали в белорусское небо и ели, ели, ели. Домик, в котором когда-то справили свадьбу я и Алеся, стоит на самом берегу Немана — на Мемеле. На этом клочке земли родился Николай, отец Алеси, который много лет назад посадил здесь в мою честь яблоню. В этом году она даст хороший урожай. Мой дед, родившийся в Познани, был на Восточном фронте и в советском плену, жил на улице, которая до войны носила название Мемелер штрассе — Мемельская.
Мы совершаем вылазки в Дзержинск с его многоэтажками — город, названный в честь лютого основателя ЧК Феликса Дзержинского, а также к усадьбе, где в шляхетской семье родился Адам Мицкевич.
«Поляки говорят: он наш писатель. Также — и белорусы, и литовцы», — поясняет директор музея. «Даже французы хотят причислить его к своим. Но я говорю: это не важно. Важна его поэзия, которая приводит сюда людей со всего мира».
В конце нашего визита — снова угощение и выпивка. Мы смеемся и плачем.
По лицу моей жены еще стекают слезы, когда на горизонте появляются фабричные трубы Барановичей.
Мы замечаем двух молодых аистов, которые взмывают к небу, бешено колотя крыльями.
Нас приветствуют мотоциклисты. Мы салютуют им в ответ протянутыми руками. Это лишь символическое приветствие. Но оно — символ единения, жест, которому нам в Европе следует снова подучиться.
Вперед, все время вперед, на запад. По улице, ведущей почти к крыльцу нашего дома, через всю нашу жизнь.